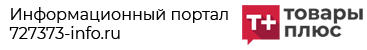Токарь завода протезных изделий, станочница завода РТИ.
Школа превратилась в госпиталь
Я была школьницей, когда началась война. Тогда в Ярославле не было асфальтированных улиц, автомобили попадались очень редко. По дорогам, вымощенным камнем, ездили повозки или сани, запряженные лошадьми. В июне рано утром на такой повозке ехал мимо нашего дома на углу улиц Большой Октябрьской и Мышкинской парень и кричал: «Война! Война!»
Школа № 12 на Большой Октябрьской, где я училась, работала до весны 1942 года, когда в ней разместили госпиталь для эвакуированных из блокадного Ленинграда. Мы хоть и продолжали учебу в другом месте, на улице Победы, из любопытства заглядывали в родные стены: классы превратились в палаты, а в сарае во дворе, где раньше хранились лыжи, спортивный инвентарь обнаружили, к своему ужасу, трупы умерших от ран и истощения. Потом видели, как на грузовиках их отвозили на Леонтьевское кладбище и хоронили в братской могиле.
На военном положении
Очень скоро после перевода в другую школу нам предложили продолжить обучение в ремесленном училище возле шинного завода, но я туда идти отказалась. «Учиться не хочешь – иди работать!» – сказал отец. После нескольких месяцев хождения по близлежащим деревням, где мы с папой сапожничали и получали за это продукты, соседка устроила меня в артель. На улице Революционной была контора, сидело руководство (как теперь говорят, находился офис), а производственный цех располагался на территории ярославского кремля. Я точила деревянные детали на токарном станке – ручки, мундштуки, пуговицы к военной форме, детали к вещмешкам – все шло на нужды армии, на фронт.
Через полгода, наверное, открыли завод по производству протезов на Революционной, 32 и всех сотрудников артели туда перевели. Работали по 12 часов. Каждый день к нам привозили на автобусах раненых из подшефного госпиталя на Зеленцовской улице. Красивые, молодые ребята, кто без рук, кто без ног, кричали нам: «Девчонки, скорее! Очень хочется домой!» Уходили от нас на протезах, хоть и примитивных по нынешним временам, но ценных – они давали возможность жить жизнью, похожей на нормальную. Помню, под деревом сидел симпатичный солдатик – у обеих рук нет кистей, ноги ампутированы ниже колен. Обрадовался, что подвижным пальцем на протезе сам мог вставить в рот папироску.
На всю первую зарплату – 250 рублей – я купила на рынке батон белого хлеба. В семье я стала главной кормилицей: предприятие-то было военное, и мне полагалась самая «дорогая», военная карточка – 600 г хлеба в день. Кроме того, сотрудники протезного завода снабжались продуктами через собственный ОРС, где можно было купить и селедку, и кусковой сахар – деликатесы в голодное военное время.
Война отобрала у нас лучшие годы, когда надо влюбляться, танцевать, быть красивой и счастливой. Ничего этого не было. После 12-часовой смены едва доплеталась до дома. Зимой, не в пример теперешней погоде, стояли лютые морозы, протопить дом было нечем. На кухне стакан примерзал к столу, спали в верхней одежде. Однажды на улице познакомилась с солдатом, симпатичным, статным. Договорились встретиться вечером, пойти вместе в кино. Зашел он к нам домой, увидел меня в фуфайке поверх домотканого платья, на ногах – сапоги, спросил: «В этом, что ли, пойдешь?», – развернулся и ушел. А надеть–то больше было нечего!
Запомнились бомбежки, самая страшная – в 1943 году. Тогда бомба попала в канализационный колодец недалеко от нашего дома и не взорвалась. Саперы ее вытащили, тяжелую и большую, увезли для обезвреживания. А улица Чайковского вся сгорела.
После Победы
Конец войны был похож на начало, только вместо горя и страха – ликование. Ранним майским утром ехал парень на повозке, теперь с красным флагом, и кричал во все горло: «Победа! Победа!». Во двор притащили столы, принесли, кто что мог, отмечали, пели песни по гармонь…
В 1945-м для меня война не закончилась. Мы оставались на военном положении – нуждающихся в протезах было много. После работы по призыву партии и комсомола ходили на субботники по благоустройству города. Молодежи протезного предприятия было дано задание отремонтировать Революционную улицу и сделать из неё бульвар. Сажали деревья и цветы, ставили штакетники, дробили кирпичи и посыпали дорожки. А потом перекинули наш отряд на строительство Которосльной набережной – на участок от моста через Которосль (тогда его называли “американским”) до Стрелки. Ярославль становился краше, избавлялся от руин войны, и это было делом наших рук.
1947 год был очень тяжелым. Карточки отменили и объявили о проведении денежной реформы. Был период, когда старые деньги вышли из обращения, а новых на всех не напечатали. Продукты покупать было не на что – маме пришлось продать последнюю подушку. Зато регулярно к праздникам был повод для радости: цены на продукты снижались. Знаете, за всю жизнь не ела ничего вкуснее, чем послевоенные бутерброды из свежей булки, намазанной сливочным маслом, с куском колбасы!
На заводе протезных изделий я проработала до 1965 года. К тому времени инвалидов войны почти не осталось в живых, заказов стало мало, зарплата упала. Надо было содержать семью, которая неожиданно выросла: нам с мужем пришлось воспитывать не только свою дочь, но и двоих племянников, осиротевших после смерти моей старшей сестры. Все мы впятером помещались в двадцатиметровой комнате коммунальной квартиры на 13 семей. Устроилась станочницей в цех на РТИ – там и работала до пенсии.
Сейчас живу в благоустроенной “однушке”, занимаюсь маленькими внуками, правнуками, беспокоюсь, как сложится их жизнь, и желаю всем людям никогда не пережить то, что пережили мы, поколение Великой Отечественной.